В продаже новый роман Михаила Елизарова «Юдоль»
Лауреат «Русского Букера» и «Нацбеста» Михаил Елизаров выпустил новый роман «Юдоль». Разделить радость поклонников популярного барда и культового прозаика и рассеять недоумение читателей неподготовленных попытался Михаил Пророков.
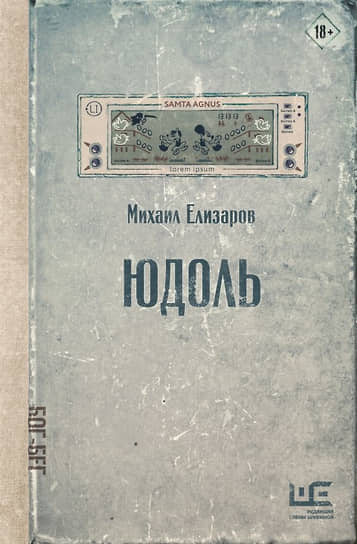
Михаил Елизаров выпускает книги нечасто. Всего 12 за 26 лет. Незамеченными они, как правило, не проходят. Предыдущий роман, «Земля», принес Елизарову «Нацбест-2020». В том же году писатель стал победителем поэтической премии «Григорьевка» (не исключено, что роман повлиял на решение ее жюри).
Следующего пришлось ждать пять лет. Хотелось, чтобы это была вторая часть «Земли» — концовка романа вроде бы предполагала продолжение, да и сам автор этой возможности не отвергал. Но вышла книга, с «Землей» связанная лишь темой смерти, в творчестве Елизарова постоянной, а персонажами и сюжетом куда более близкая к опубликованному в 2003 году «Pasternak». Вместо неторопливого погружения в сущность бытия и небытия герои вновь лихорадочно спасают мир, постигая на бегу скрытые смыслы (и вызывая справедливое возмущение читателя: хватит объяснять, действуй уже!). И если в «Pasternak» героям давали что-то понять в детстве, «пока не началось», так что во взрослом возрасте они могли принимать решения в соответствии с полученными знаниями, в «Юдоли» протагонистам — мальчикам Артуру и Косте так и не дают вырасти. Косте все необходимое (и сотню-другую абзацев лишнего) объясняет проковыренная гвоздем царапина на руке, именующая себя Божьим Ничто. Артуру вообще ничего не растолковывают, с ходу предлагая стать искупительной жертвой за грехи всего человечества и злыдня-антагониста, в частности.
Другое отличие — в фигуре антагониста. Хтоническое титульное чудовище-2003 в 2025-м сдало вахту заурядному счетоводу-пенсионеру по фамилии Сапогов, за похождениями которого автор следит не менее внимательно, чем за приключениями детей. Путь от начинающего колдуна до Черного Властелина прослеживается по пунктам: от изготовления Сапоговым первого гримуара из поваренной книги до получения им приглашения занять вакантное место Хранителя Ада.
И вот это отличие — принципиальное. Да, в «Pasternak» антагонист тоже не был чисто условной фигурой, герои вдумчиво читали строки поэта, ища в них проговорки — признаки скверны. Но все же к числу действующих лиц он не принадлежал. Сапогов же равноправен с Костей и уж куда активнее и несчастного Артура, и его еще более несчастного отца — диктора Центрального телевидения Игоря Кириллова, еще одного положительного персонажа. Маньяку-счетоводу даже достается — словами влюбленной в него ведьмы — пародийно-идиллическая концовка. Пародируются, естественно, «Мастер и Маргарита», по которым Елизаров и в «Pasternak» проходился; но, возможно, концовка даже слишком лирична, чтобы быть лишь пародией.
Это внимание к Сапогову, человеку невежественному и вполне заурядному, кажется сперва чем-то труднообъяснимым. Можно, конечно, рассматривать его как носителя еще одной разновидности того, с чем Елизаров воевал в «Pasternak» — светской, без- или псевдорелигиозной духовности, всякого рода эзотерики, в данном случае — самой прямолинейной, инфернально-оккультной. Но, право слово, заслушать в качестве адепта всего вот этого было бы гораздо интереснее кого-то еще: самого Пастернака, или шамана-экстрасенса-астролога с хоть каким-то высшим образованием, или даже ведьму Аниту Макарьевну, более продвинутую сапоговскую подругу. В качестве идеолога Сапогов безнадежно слаб.
В каком же качестве антагонист «Юдоли» силен? Ответ на это можно найти, глядя на ту же Аниту Макарьевну, сперва презиравшую безграмотного колдуна-самоучку, но по мере роста его могущества проникнувшуюся уважением, а затем и страстью. Силен Сапогов в силе, в ней, брат, и правда в елизаровском мире. Если в «Pasternak» сила была на стороне героев, а их противники брали хитростью, изворотливостью и умением пудрить мозги поэзией и прочим пустословием, то в «Юдоли» сила перешла на темную сторону.
Борьбе правой силы с неправой, но коварной слабостью был посвящен не только «Pasternak», но и многие песни Михаила Елизарова. Вспомним хотя бы его знаменитую «Оркскую», где краснозвездные назгулы отважно бьются за белокаменный Мордор, Гэндальф и Арагорн казнены, гномы молятся и каются, а ставшие добычей победителей-орков эльфийки стонут в экстазе. Рассказчик «Pasternak» смаковал сцены расправы над сатанистами, евангелистами и прочими ньюэйджевцами. Рассказчик «Юдоли» упивается тем, как инфернальные псы рвут на части колдунов — соперников Сапогова.
Брутальностью нынче не удивишь, даже вон Виктор Пелевин вернулся к уголовно-тюремной поэтике. Да и смысл «Юдоли», каким бы он ни был, не сводится к борьбе силы и слабости. И не то чтобы преклонение перед силой в елизаровских текстах с годами крепло. Но перенос внимания с мрачных и кровожадных, но все же болеющих за Свет и добро героев на унылого маньяка-сатаниста, а с «белокаменного Мордора» на Мордор совсем уже чернокнижный, пахнущий содержимым прямой кишки (в лексике персонажей-колдуноборцев тоже всяких нечистот хватает: «И вышел из меня глист-аквалангист и молвил: «Иди бестрепетно и не падай!»»), наводит на мысль, что надежды на что-то одновременно благое и могущественное в елизаровском мире уже почти нет.
На это намекает и травестийно-мультяшная прорисовка линии «светлых», и сомнительность фигуры рассказчика, и безрадостность хеппи-энда. И слишком уж пристальное внимание к тому, что в классической эстетике называется безобразным, а здесь точнее было бы назвать отвратительным. Впрочем, в тексте этому можно найти обоснование: «Не нравственный закон, не совесть, а Мерзость лежит в основе Различения, главного умственного механизма, дающего нам представление о мире и себе. Мерзость делает нас людьми, упорядочивая сущее в базовой дихотомии: омерзительное и все прочее. Отвратительны бульканье и брожение, вонь и смрад, желеобразность, липкость, вязкость…» Перечисление продолжается, но сильно яснее авторская интенция от этого не делается.
Скорее что-то может прояснить припоминаемое рассказчиком в конце «заклинание» Lore ipsum. Надерганная из сочинения Цицерона «О пределах добра и зла» «рыба», она же плейсхолдер (текст, не имеющий смысла и используемый для заполнения пустых мест на страницах), в романе получает философское обоснование: «По Божьему допущению Lorem ipsum — изначальный наполнитель пустоты материальной вселенной, код, описывающий нашу языковую реальность. И создан он действительно для того, чтобы всякий живущий созерцал феномены и формы, не отвлекаясь на смысл, который отсутствует».
Формы, лишенные смысла и какой бы то ни было приятности,— надежный антидот от псевдодуховности. Но соблазн может крыться и в них — скажем, соблазн причастности к мрачным тайнам, в которых — где-то в самой глубине — плещется, побулькивая, финальный неутешительный смысл.
Если слишком долго и неосторожно вглядываться в бездну, доски могут не выдержать.
