«Пустые поезда 2022 года» Дмитрия Данилова
Дмитрий Данилов — поэт, прозаик и драматург, лауреат театральных и литературных премий (последняя — в прошлом году за роман «Саша, привет!») — написал книгу о поездках по железной дороге. Называется она «Пустые поезда 2022 года». Вместе с автором по маршрутам книги проехался Михаил Пророков.
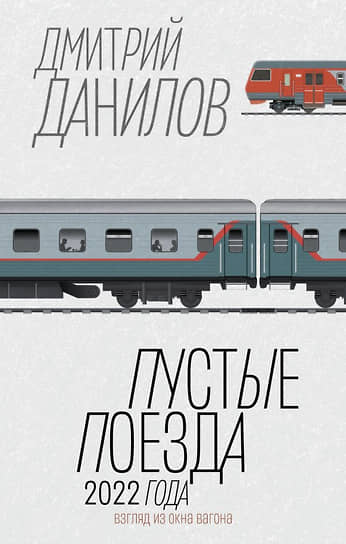
Человек садится в поезд. Поезд трогается. «Сначала мимо долго проносится Москва, потом проносятся Химки с невидимым в темноте стадионом «Арена Химки», потом проносится сияющий огнями Зеленоград, потом… проносится Волга, потом проносится Тверца, потом проносится еще некоторое количество станций и населенных пунктов, и вот уже Бологое сначала проносится, а потом перестает проноситься и стоит неподвижно».
Человека несет куда-то по пути, где повороты редки, а высота неизменна, он не парит в облаках и не колеблется ветром, не сжимает в руках руль и не пытается угадать действия едущей впереди машины, его кругозор ограничен одним боковым окном, его ответственность за происходящее равна нулю. Он едет, имея все шансы оставаться внутренне неподвижным.
Человека зовут Дмитрий Данилов, он писатель, путешествует по России, один раз выезжает за ее пределы — в Абхазию. Описаний абхазских красот, полагающихся для путешествующего литератора, в книге нет. Есть добрые слова про новый вокзал в Адлере, собственно про Абхазию — тоже только про железную дорогу: «Железнодорожная линия от российско-абхазской границы до Сухума устроена очень просто. Есть несколько крупных станций — Цандрыпш (граница), Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухум… Между этими станциями есть небольшие платформы… После того как несколько лет назад закрыли пригородное движение, эти платформы не работают и приходят в упадок».
О российских городах и весях Данилов высказывается так же скупо. Поначалу это кажется приемом, некоей игрой с читателем, но потом автор подводит под эту сверхлаконичную манеру концептуальные обоснования. Такое, например: «Можно было бы описать степь и езду по ней, ощущения, которые вызывает созерцание степи у созерцающего, описать красоту и величие степи, оттенки ее цветов и так далее, но, наверное, не нужно. Уже написано множество текстов про степь, например знаменитая одноименная повесть А. П. Чехова, и зачем добавлять к ним еще один текст».
Про поездки на поезде, впрочем, тоже немало написано. Задолго до Данилова было замечено, что одинокий со светящимся окошком домик в полях выглядит из окна поезда романтично и таинственно — почти так же романтично и таинственно, как светящиеся окна дальнего поезда из окна того затерянного в полях домика. Но автор «Пустых поездов» не склонен настаивать на ценности своих наблюдений — более того, ближе к концу «проекта», как он называет свои поездки и книгу о них, прямо говорит, что главное во всем этом — не смотрение в окно и не выискивание интересных объектов. Что же тогда?
Во-первых, достижение определенного состояния — безмятежности, безмыслия, внутренней тишины, той самой неподвижности. А во-вторых — возврат к такого (и порой гораздо лучшего) рода состоянию, когда-то раньше (обычно в детстве) достигнутому. Так случилось, что железными дорогами автор увлекался с юных лет. Так случилось, что поездить по ней ему пришлось немало, обычно с мамой. Так случилось, что мать Дмитрия Данилова — ей и посвящена книга — умерла от постковидного инсульта в конце января 2022 года, через три недели после первой описанной в книге поездки.
Так что все воспоминания о совместных детских поездках приобретают особый, незапланированный привкус. Наблюдения, и оставшиеся в памяти, и утраченные, делаются ценны не сами по себе, а как часть какого-то трудноформулируемого целого. Скажем, та же абхазская поездка — из Адлера до Сухума — частично воспроизводит путешествие на поезде «Москва—Сухуми» в середине 1970-х, когда семилетний автор ехал с мамой на отдых в Новый Афон. Попытки восстановить в памяти подробности той поездки и того отдыха результата не приносят. Ну разве что удается вспомнить то, как в Гагре чуть не отстали от поезда, еле догнали. Или железную дорогу, которую нужно было переходить по пути на пляж. «Еще смутно помнятся бетонные волнорезы, на равных расстояниях друг от друга уходящие от каменистого берега в море. Собственно, вот они, эти волнорезы. Где-то здесь, на этом участке (где железная дорога идет непосредственно рядом с берегом и где есть волнорезы) мы тогда и отдыхали. Это протяженный участок, точное место установить невозможно. И спросить теперь не у кого».
«Семь лет — не младенческий возраст,— возвращается к тем несохранившимся воспоминаниям автор в конце главы,— можно было бы и запомнить какие-то подробности того давнего отдыха летом в Новом Афоне. Как ехали, где жили (вообще отшибло), о чем говорили с мамой, что еще было, кроме долгого, часами, бултыхания в море.
Ничего, только бег за поездом в Гагре, только поезда, проезжающие мимо пляжа, и серые корявые бетонные волнорезы, на равных расстояниях друг от друга уходящие от каменистого берега в море. Больше ничего».
В общем, можно было бы сказать, что тревелог становится некрологом — но нет, не становится. Просто поездки в пустых поездах по малодеятельным (термин такой) веткам приобретают некий дополнительный смысл.
В теории литературы конкурируют две концепции литературных родов. Одна разводит лирику и драму на разные полюса (в одной — только авторский голос, в другой его нет вообще), а эпос склонна понимать как их синтез. Согласно другой, лирика наиболее субъективна, эпос объективен, драматургия — посередине. Явление «проза драматурга» в его обычном понимании вроде бы льет воду на мельницу первой: какая уж там лирика, когда все происходящее вершится в подразумеваемых огнях рампы или софитов, должно двигаться, действовать, нанизывая одни коллизии на другие перипетии. Однако книга Данилова работает в противоречии с этим: авторский голос слышен постоянно, но в отсутствие деклараций и сколько-нибудь педалируемых эмоций он становится как будто фоном, не заглушающим другие голоса — как вагонных попутчиков, так и неодушевленных предметов: полустанков, платформ, зданий разной степени обветшалости, вывесок, надписей на заборах. Между ними не возникает коллизий, они не борются, не вступают в противоречия. В итоге получается то, что как раз ближе всего к лирике, но лирике хоровой, многоголосой. Поэзия — но без рифмы, с ритмом, который перестает ощущаться, как перестает со временем слышаться шум моря или постукивание вагонных колес, с образами, которые не вылавливаются из житейских вод и не мастерятся опытными руками, а возникают сами, почти как Венера из пены.
Ну или как волнорезы.
