«Крейцерова соната»: почему Толстой беспощаден ко всем
Повесть Льва Толстого, впервые вышедшая в 1890 году, скандализировала тогдашнее общество: рассказывая о банальном убийстве из-за ревности, Толстой фактически говорит, что всякий брак есть обман и прикрытие для разврата, а сексуальное влечение сводит человека с ума и влечет к смерти. Вопросы, поставленные с такой предельной прямотой, добавили новые оттенки в репутацию Толстого как учителя жизни — и даже спустя полтора столетия, считает Юрий Сапрыкин, заставляют задуматься: к чему ведет такой безжалостный моральный радикализм?
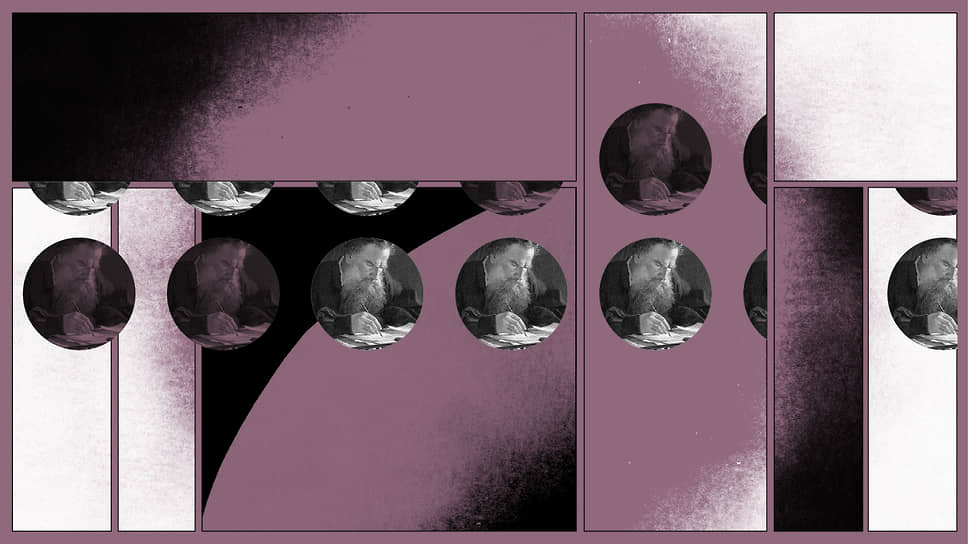
В мире не так много авторов, которые вызывают у читателя такую искреннюю злость — как он мог так обойтись со своими героями? Даже ребенок с книжкой в руках понимает, что имеет дело с вымыслом, и писатель над ним не вполне властен, и Татьяна может выкинуть такую штуку, что сам автор ахнет. Но на Толстого эта презумпция не распространяется, сколько лет уж прошло, но до сих пор в соответствующих комментах можно встретить претензии — во что он превратил Наташу, как он мог отправить Анну под поезд, зачем он так безжалостно избавился от Элен. Как будто они могли бы жить-поживать, если б не вмешался яснополянский дед. Это, конечно, обратная сторона его манеры (если не сказать гениальности): и Анна написана так, что мы почти физически чувствуем ее тепло, и сам автор постоянно демонстрирует в тексте свое всемогущество и всеведение, оттого кажется, что «аз воздам» — это он про себя. Но вопрос остается: он делает персонажей живыми, а потом бестрепетно выщелкивает их, как жестянки в тире,— зачем он так?
«Крейцерова соната» в этом корпусе «оскорбительного Толстого» держит уверенное первенство — хотя претензии к ней немного по другой части. В этом тексте тоже есть жестоко убитая женщина, но ее не то чтобы жалко: Толстой здесь делает больно не кому-либо из персонажей, а непосредственно читателю. Читатель с момента первой публикации пытается ответить автору тем же.
Православные иерархи и публицисты из числа современников Толстого после выхода «Крейцеровой» называли его безумцем, который хочет растоптать таинство брака. Чехов, признавая художественную убедительность повести, все же писал с раздражением — мол, Толстой вообще не понимает, о чем говорит, почитал бы для начала специалистов. В современной оптике «Крейцерова» — манифест мужской токсичности: на российских подкаст-платформах задаются вопросом, зачем Толстой оправдывает убийцу, заголовки соответствующих выпусков — «Абьюз в помещичьей семье» и «Мужской взгляд на брак». Так или иначе, в «Крейцеровой» говорится что-то очень неприятное для каждого, открывшего эту книгу: то ли читатель (-ница) — часть мирового зла, которое пожирает невинные души, то ли это зло вот-вот его (ее) съест, то ли он (она) уже давно внутри кита, но этого не замечает.
Это еще один характерный для Толстого прием — сообщить со всей возможной убедительностью, что вы, читатели, живете внутри коллективной галлюцинации, но я сейчас вам все объясню. Сам он — как Нео, который съел правильную таблетку и увидел, как все устроено на самом деле: в «Крейцеровой» объясняется тайная подноготная того, что на языке современности принято называть «отношениями». Брак — лишь прикрытие для звериного полового инстинкта, попытка ввести его в социально приемлемые формы и (чаще всего тщетно) загнать в моногамные рамки. Любовь — на субъективном уровне что-то вроде опьянения, сиреневый туман, прикрывающий все ту же плотскую подоплеку, на уровне общественно-культурном — аналог украшений из цветов и воздушных шариков на лимузине, который везет в ЗАГС, брачные танцы, финальным актом в которых все равно становится — ну вы поняли. Если в итоге все сводится к плоти и силе, то представление о любви — буквально «романтизация насилия».
Что до собственно плотских отношений, тут все совсем безысходно: это слепая, хтоническая, дьявольская сила, которая вертит человеком как хочет и в пределе (о чем Толстой догадывается задолго до Фрейда) увлекает его к смерти. И в «Крейцеровой», и в написанной одновременно и на ту же тему повести «Дьявол» герои приходят к одному и тому же выводу: если до конца быть честным с собой, то, оказавшись в плену плотской страсти, нужно либо убить себя, либо уничтожить объект этой страсти (у «Дьявола» Толстой даже оставил два варианта финала — в одном герой стреляет в себя, в другом — в нее). Всего два выхода для честных ребят, и, по Толстому, любой брак, роман, увлечение и т. д. с неизбежностью приводят к той же финальной развилке. А если вам кажется, что это перебор и все не так однозначно, вы просто не выпили нужную таблетку.
Безжалостность Толстого проявляется в тексте на нескольких уровнях. Он безапелляционно обобщает и гребет всех под одну гребенку: так живут все, это касается всех, людям просто свойственно «себя затуманивать, чтобы не видать бедственности своего положения». Такие обобщения всегда риторически эффектны, но легко опровергаемы — у каждого найдется счастливо женатый знакомый,— но Толстому зачем-то нужно настоять, что случай «Крейцеровой» не особенный и не частный. Он касается не какого-то вымышленного сумасшедшего Позднышева, а тебя, читатель. И тебя, и тебя. А что до сумасшествия, то, как говорится в финале повести «Дьявол», «если он был душевнобольной, когда совершил свое преступление, то все люди такие же душевнобольные».
Толстой не щадит и себя: вообще-то отдать свои сокровенные мысли маньяку-убийце, намеренно размыв грань между маньяком и автором,— это сильный ход, практически явка с повинной. И все черты героев этих повестей, из которых сейчас делаются выводы об устройстве «мужского взгляда»,— то, как Позднышев обвиняет жену, что она «специально прикидывается беспокоящейся о детях», чтобы больнее его уколоть, или как Евгений из «Дьявола» радуется тому, что жена наконец стала тихой и совсем незаметной, вот теперь можно пожить,— это же Толстой не учит, как надо, а говорит, как это ужасно, и говорит в том числе о себе, он в себе это видит.
Толстой бросает обвинения тому классу, к которому принадлежит: весь этот разврат — не от того, что люди с ним родились, он не часть их природы. Причина всех бед в том, что высшее общество признало разврат за норму и приложило массу усилий, чтоб сделать его легальным и безопасным, и к моменту вступления в брак его представители безнадежно им заражены. У трудящихся, лишенных излишеств и праздности, работающих круглые сутки, чтоб хоть как-то себя прокормить, с этим делом здоровее и проще. Может быть, более всего Толстой беспощаден к Софье Андреевне: разбрасывая по тексту известные только им приметы общей биографии (вроде дневника, который Позднышев дает почитать невесте перед свадьбой, или многолетнего увлечения крестьянкой, которое мучит героя «Дьявола»), он буквально хлещет ее по щекам: смотри, что я о тебе на самом деле думаю.
Толстая потом будет добиваться аудиенции у Александра III, чтоб протолкнуть «Крейцерову» через цензуру, а после — неслыханное дело! — напишет повесть «Чья вина?», ремейк «Крейцеровой» с точки зрения женщины. Реакция более широкой общественности строилась по схожей модели: признавая толстовское величие и запойно читая повесть в списках еще до официальной публикации, публика спорила, возмущалась и опровергала. Впрочем, наиболее часто встречавшийся контраргумент «если все, связанное с полом,— это проклятие и от этого нужно отказаться, как же люди будут продолжать свой род» Толстого нисколько не смутил: ну да, писал он, «уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира, а есть для религиозных людей догмат веры, для научных же людей неизбежный вывод наблюдений об охлаждении солнца» — дескать, чего вы так распереживались? И так все умрем, хоть душу спасем.
При известной восприимчивости «Крейцерова» до сих пор воспринимается как пощечина. Но даже если вы готовы принять выводы Толстого за окончательную истину — а убедительная сила его слов прямо-таки настаивает на этом,— возникает вопрос: а делать-то что? Видимо, первые читатели не гнушались обращаться с вопросом непосредственно к автору: известно, что Толстой вынужден был написать послесловие к «Крейцеровой», где изложил план практических шагов, как нам поступать с семейно-половой сферой. Герои «Дьявола» и написанного немного позже «Отца Сергия» в момент, когда на них нападает соблазн, клали руку в огонь, отец Сергий потом еще и отрубил палец. Как известно читателям толстовских повестей, это не помогло — судя по состоянию современного общества, толстовские лайфхаки также не возымели действия.
Впрочем, в каком-то виде его подход спустя столетие с лишним дал свои всходы: новоэтические стандарты, с точки зрения которых Толстой рисуется абьюзером и носителем «мужского взгляда», во многом исходят из того же пафоса, что горит в «Крейцеровой»,— нельзя превращать человека в вещь, в объект, в секс-гаджет. «Не может быть того, чтобы для здоровья одних людей можно бы было губить тела и души других людей». Герой «Крейцеровой» погубил жену, но сам себя он убивает еще прежде — как говорит он в своей исповеди, «в городе можно прожить сто лет и не хватиться того, что ты умер и сгнил»,— он становится мертв в тот момент, когда начинает относиться к другому как к вещи, ко всему на свете как к способу достичь удовольствия.
План Толстого никому не помог, и это заставляет нас задуматься уже не о природе сексуальности, но о том, насколько оправдан моральный радикализм. Вот ходят такие — пророки в своем отечестве, кликуши, белые пальто. Чего-то от всех требуют, лучше всех знают, как жить. И толку-то? Ладно бы одна «Крейцерова», но сколько на свете таких объяснений и инвектив, у одного Толстого 90 томов,— не помогло. Но Толстой в послесловии к «Крейцеровой» заранее объясняет, почему моральные вопросы просто-таки необходимо ставить именно с такой степенью радикальности.
Есть простые правила и предписания, те самые «лайфхаки», они доступны и легки в исполнении, но в два счета приводят к компромиссу с наличным положением вещей. А есть идеал, про который заранее понятно, что он недостижим, но, если принять его за ориентир и грести в его направлении, может, удастся проплыть хоть сколько-то. Должен быть кто-то, кто про этот идеал напоминает — хватает за грудки, тормошит, не дает спать. Это не значит, что в конечном итоге он окажется прав,— может, для современников он так и останется помехой, а для потомков станет посмешищем. Но без этого ничто никуда не сдвинется, совсем. «Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «держись того возвышения, мыса, башни» и т. п. Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое дано нам».
